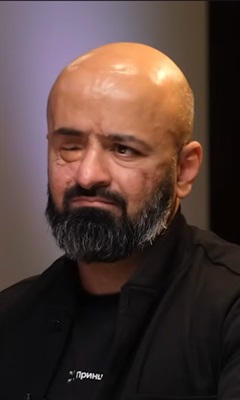С каждым годом 23 октября почтить память погибших освободителей города на Братское кладбище приходит, увы, все меньше и меньше горожан. Тех, чьи отцы и деды защищали Советский Союз во время Второй мировой войны, уже осталось немного в живых, и их возраст пенсионный. А молодежь в суматохе будничных хлопот далеко не всегда может вырваться в рабочий день, чтобы прийти на митинг, принести цветы на могилы павших воинов.
Благо, школьников и детсадовцев сюда приводят учителя и воспитатели, напоминая им печальные страницы истории страны и города.
В день освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков, уже после окончания официального мероприятия, когда скромные букеты цветов укрыли надгробия, вдоль плит с длинным списком погибших воинов шла женщина с маленьким внуком, внимательно всматриваясь в фамилии.
Остановились. «Где дедушка?» - все время спрашивал малыш. «Антон, вот здесь положим цветочки» - объяснила мальчугану женщина. И оказалось, что мелитопольцы принесли цветы незнакомому, но конкретному человеку – рядовому Федору Браженко.
- Я 38 лет хожу сюда, на это кладбище и ношу цветы, - объяснила MLTPL.City сотрудница ООШ №1 Татьяна Степанова. – Когда-то давно - в 1981-м году - меня после окончания автомоторного техникума направили в город Кострому, и на вокзале в Ярославле я познакомилась с молодым парнем. Он спросил, откуда я, я сказала, что из Мелитополя. И он рассказал, что у него дед погиб под Мелитополем – Браженко Федор Семенович. Я навсегда это запомнила. Пришла на Братское кладбище, нашла в списке погибших его фамилию, и вот каждый год 23 октября мы приходим сюда и я возлагаю цветы. А затем как обычно пишу об этом своему российскому знакомому. Вот и сегодня сообщу, что мы с внуком навестили его деда на кладбище.
А еще случайная знакомая рассказала журналисту о своих предках, которые незадолго до Второй мировой войны перебрались жить из Орловской губернии в село Мордвиновка и затем оказались здесь в оккупации.
- Мой дед, Александр Анишин с женой, пятью сыновьями 24-36 годов рождения и с крошечной дочкой Любушкой 1939-го года рождения приехали и обустроились на этой земле, - говорит Татьяна Павловна. - Дед был участником советско-финской войны, где был ранен, потерял ногу. И потому, когда началась Вторая мировая, его на фронт не отправили. Зато пришедшие на мелитопольскую землю оккупанты назначили его старостой села – мужиков-то в селе больше не осталось. Старшего сына, Владимира, который к тому времени уже окончил железнодорожное училище в Харькове, мобилизовали в Красную Армию, и вскоре на него пришла похоронка, он лежит в Братской могиле под Витебском. Здесь же Александру Ивановичу пришлось прятать от угона на принудительные работы в Германию сыновей-подростков, да и других местных ребятишек. Зная, когда готовится облава, дед отправлял сыновей с предупреждением в определенные дома, и молодежь из села исчезала, прятались, кто где мог.
Бабушка рассказывала, что мои папа и дядя, которым на тот момент было по 14-12 лет, уходили далеко в лиманские плавни. Дядюшка, ставший потом моим крестным, вспоминал, что они там 40 дней жили без еды. Выбирались ночью на баштан за арбузами, питались яйцами чаек.
А иногда бабушка отправляла к ним со скудным провиантом младшую дочку – Любочку. Я удивилась: «Какую Любу?», и даже не сразу поверила – ведь ей тогда было всего 4 года! «Какую-какую, у меня их что – пять штук, что ли? У меня она одна, - отвечала бабушка. - Она – маленький ребенок, кто ее в чем заподозрит? Она шла к братикам с котомочкой, как побирушечка, и с куклой под мышкой». «Но ведь рядом с селом шли бои, и она могла погибнуть от случайной пули!». «Я детей спасала - Павку с Колькой. Ну а Господь, видать, был на моей стороне» - отвечала бабуля.
А подтверждение боям сохранилось и до моего детства – буквально в 30-ти метрах от дома оставалась огромнейшая воронка от снаряда, в которой мы иногда... купались! Когда в октябре 43-го село освободили от фашистов, деда забрали «за пособничество оккупантам». Домой он больше не вернулся, и долгое время в нашей семье о нем упоминать было не принято. Моего отца, очень толкового специалиста, хотели отправить работать за границу, однако «пятно» в биографии не позволило этого сделать. Тетя Люба об отце помнила немного – как отец носил ее на речку Молочную на плечах, и как спала ночью в обнимку с его деревянной «ногой». Только в 70-е годы, когда «органы» подтвердили, что дед не был предателем, бабушка стала получать 10 рублей пенсии за погибшего старшего сына. А мужа она очень любила, и не хотела верить, что его больше нет в живых. Говорила, что не чувствует, что он погиб. Успокаивала себя надеждой, что «может, он где-нибудь в Америке или еще где живет».
Ну а теперь историю рода уже я рассказываю своим внукам.
Фото и видео Ирины Левченко